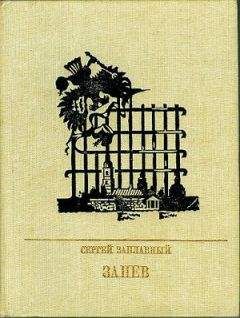А вечером кулацкий элемент предупреждал крестьян на сходе:
— Смотрите, братцы, своих парнишек не пущать башки оттяпывать. Боже упаси. Заезжему прощелыге с пьяных глаз — фокус, а человеку может приключиться смерть с непривычки.
Народный дом густо набит зеваками.
Фокусы были замечательные. Вырастали цветы в плошках на глазах у всех, исчезал из-под шляпы стакан с водой, фокусник изрыгал фонтаны пламени и дыма, в гроб клали девушку — помощницу, закрывали, открывали при свидетелях и — вместо девушки лежал скелет.
Зрители пыхтели, впадая в обалдение, старики и бабы отплевывались, крестились, призывая всех святых. Ребята широко открывали рты и не дышали.
После перерыва фокусник еще проделал много разных штук и в конце заявил ошалевшей толпе, что он хворает и поэтому отрубание головы отменяется. Народ вдруг взбунтовался, зашумел.
Громче всех, подзуживая зрителей, буянил кулацкий элемент:
— Ага, ишь ты! Руби, руби! — шумел народ. Толпа была возбуждена, раздувались ноздри.
— Идя навстречу желанию публики, — начал фокусник, — и благодаря угрозам, я, конечно, как будучи беззащитен против сотен зрителей, соглашаюсь. Но предупреждаю: операция может закончиться печально, потому что я утомлен и близок к обмороку.
Кулацкий элемент многозначительно переглянулся: «Клюнуло. Все как по маслу… Так».
— Согласны на таких условиях? Я всю ответственность переношу на вас.
— Жалаим!.. Просим! Сыпь!!
Кулацкий элемент радостно заерзал на скамейках.
— Желающие, пожалуйте на плаху! — озлобленно крикнул фокусник и покачал широким топором.
Никто не шел. Все оглядывались по сторонам, шептались, подбивая один другого. В углу уговаривали древнего старца — ведь это ж не взаправду, а ежели выйдет грех, деду все равно недолго жить. Старец тряс головой, плевался, а когда его подхватили под руки, загайкал на весь зал:
— Караул! Грабят!
И вот раздался голос, очень похожий на голос торгаша Власа Львова:
— Пускай Мишка Корень выступает! Он — комсомол, не боится ничего.
Минуту было тихо. Потом, рассекая полумрак, взвились насмешливые крики, как бичи:
— Ага, Миша! Боишься?! Вот тебе и нету бога! Тут тебе, видно, не митинги твои… Ха-ха!.. Попался?!
Селькор Мишка Корень, сидевший на первой скамье, вдруг встал, весело швырнул слова, как горсть звонких бубенцов:
— Сделайте ваше одолжение, сейчас! — и быстро заскочил на эстраду.
— Не боитесь? — спросил фокусник громко, чтоб все слышали, и, скосив глаза, строго осмотрел жизнерадостного, в белых вихрах, юношу.
— А чего бояться? — так же громко ответил тот. — Без головы не уйду.
— Ну, смотрите… Чур, после не пенять. Давайте завяжу вам глаза, а то страшно будет.
В задних рядах девчонка, сестра Мишки, с ревом сорвалась с места и кинулась домой, предупредить отца:
— Мишку резать повели!
Фокусник завязал лицо юноши белым платком по самый рот и усадил его возле стола с плахой.
Юноша не знал, что заговорщики, затаив дыхание, ждут его конца, ему и в ум не приходило, что фокусник — продажная тварь, предатель, он не чувствовал сердцем, что его сейчас убьют, поэтому так доверчиво, с улыбкой он положил на плаху свою голову.
На сцене — полумрак. Фокусник засучил рукава и ухватился за топор. Весь зал с шумом поднялся на ноги, вытянул шеи, замер. Зал верил и не верил.
Сверкнул топор, зал ахнул, голова с хрястом отделилась от туловища, тело Миши сползло со стула на пол.
Фокусник взял в руки белокурую, с завязанным лицом, голову и показал народу. Из горла свисали жилы, струилась кровь.
С визгливым криком несколько женщин лишились чувств. Зал оцепенел. Мертвящей волной пронесся мгновенный холод. Зал копил взрыв гнева и тяжко, в сто грудей, передохнул.
Фокусника охватила жуть, он увидел звериные глаза толпы, побелел и зашатался.
«Сейчас упадет», — мелькнуло в сознании торгаша Власа Львова.
Толпа враз пришла в себя и с гвалтом, опрокидывая, скамьи, топча упавших, зверем бросилась вперед:
— Убивец!! Подай Мишку!
Толпу охватило яростное пламя мести, крови:
— Ребята, бей!! Души!!
Но вдруг толпа с налету — стоп! — как в стену: из-под стола с хохотом поднялся казненный Мишка Корень и в гущу взъерошенных бород, перехваченных ревом глоток звонко закричал:
— Товарищи! Я жив и невредим!! Да здравствует советская власть! Урра!
Весь зал взорвался радостными криками: «Ура, браво, биц-биц-биц!»
— Товарищи! — надрывался фокусник. — Это же в моих руках голова куклы. Это же ловкость рук! Прошу занять места… Сейчас будут объяснены все фокусы!
Тут вздыбил на скамьи весь кулацкий элемент. Очнувшийся Влас Львов громогласно заорал:
— Жулик ты! Обманщик!… Тьфу твои паршивые фокусы!! — И озверевшим медведем стал продираться к выходу. — Хорошенькие времена пришли! Ни в ком правды нет… Ни в ком!!
Фокусник, юркий, бритенький, улыбнулся ему вслед. Во рту фокусника золотой зуб и важнецкая сигарочка торчит…
Афоньке шесть лет, его двоюродному брату Степану — шестнадцатый. В третьем году Степан уехал с отцом в Москву, уехал Степкой, вернулся Степаном Обабкиным, «комсомольцем молодежи». В голодное время его отец работал в деревне на своей земле, потом вновь поступил на фабрику.
— Батька мой — большевик, — с гордостью говорил Степан. — И как где собрание, обязательно речь сказывает… Называется — предшествующий оратор. Я всякий раз на собрания ходил. Речей двадцать завсегда. Слушаешь, слушаешь — уснешь: уж очень люблю я речи слушать. Батька мой, конечно, в общем и целом — слесарь, а я — комсомолец молодежи теперь. Хочешь в комсомол? Я здесь организую. У вас тут засилье, ни одного комсомольца нет.
И много, много рассказывал Степан Обабкин белобрысому, большелобому Афоньке. Тот хлопал глазами, во все уши слушал, от напряжения потел.
О разных московских чудесах повествовал Степан: об электрическом свете, о трамваях, кинематографах, аэропланах, и какие представления в театрах, и о том, как в майский праздник вся Москва на площадях: все красным-красно, и двадцать миллионов рабочих масс.
Заманчивей, упоительней всего для Афонькиной души рассказы о полетах ввысь и кинематографе.
— Ну и картинки… Вот картинки! — поддавал жару Степан Обабкин. — Например, охота на диких зверей в Африке, — неограниченная республика такая существует: тигры, слоны, львы. Ужасти, до чего занятно. Эх, вот бы тебе, Афоня, в общем и целом поглазеть!..
— А звери-то настоящие? — раздувал ноздри Афонька.
— Неужто нет! Все настоящее… Опять — дворцы, и как в них тираны-короли живут-прохлаждаются, или, например, города разные, моря, корабли. Все настоящее… Гонщиков еще показывали на автомобилях. Знаешь? Называется — знак тринадцать. Все натуральное, всамделишное, обмана нет.
— Вот бы… — прошептал Афонька, и вдумчивое, выразительное лицо его умилилось.
А тут… В этакую глушь, в трущобу нежданно-негаданно прибыл какой-то человек, называется — киноспец, фамилия непонятная. Росту он небольшого, коренастенький, на носу — глазастые очки; из каких он народов— неизвестно. Даже Степан Обабкин не мог определить.
— Лоб китайский, нос чухонский, глаза цыганские, а голова с плешью, — говорил он. — Надо полагать — интернационал. Только не музыака, а личность.
И вот началась история.
Киноспец снял у крестьянина большой пустовавший сарай, быстро приспособил его для кинематографа и вывесил афишу, что, мол, будет показано самое настоящее кольцо Нибелунгов, замечательная картина, мировой боевик, от которого ахнешь, а кто не верит, может убедиться за 15 копеек серебром или 5 штук свежих яиц, не болтунов. После же сеанса, мол, будут со сцены кушать семидюймовые гвозди с демократическим подходом к событиям, а не как довоенные жулики-шпагоглотатели с буржуазной точки, и прочее, и прочее, да здравствует Советская власть!
В этой глухой, но зажиточной деревне сроду никто не видывал кинематографа, и, несмотря на приманчивые зазывы киноспеца, билеты вовсе не раскупались. Тогда в подмогу киноспецу сам себя мобилизовал Степан Обабкин: согласно идеологии, он с жаром взял под свою защиту это культурное начинание. Вместе с Афонькой, тоже пожелавшим принять горячее участие в деле столь высокой важности, они бегали из избы в избу с агитацией. Степан Обабкин в новых брюках клеш и картузике со светлым козырьком уверял мужиков и баб, что невиданной живой картиной все останутся довольны; там все движется: лошади бегут, собаки лают, люди дерутся или целуются, как живые, и все живое, настоящее, без всякого обмана, даже можно испугаться, когда вдруг пожар или в пропасть вниз башкой, а за ним погоня…
Однако красноречие не помогало. Тогда Степан Обабкин, забыв заветы комсомольства, начинал клясться и божиться, как цыган, размашисто крестясь в передний угол.
![Вячеслав Шишков - Хреновинка [Шутейные рассказы и повести]](https://cdn.my-library.info/books/150395/150395.jpg)